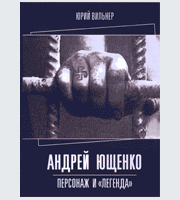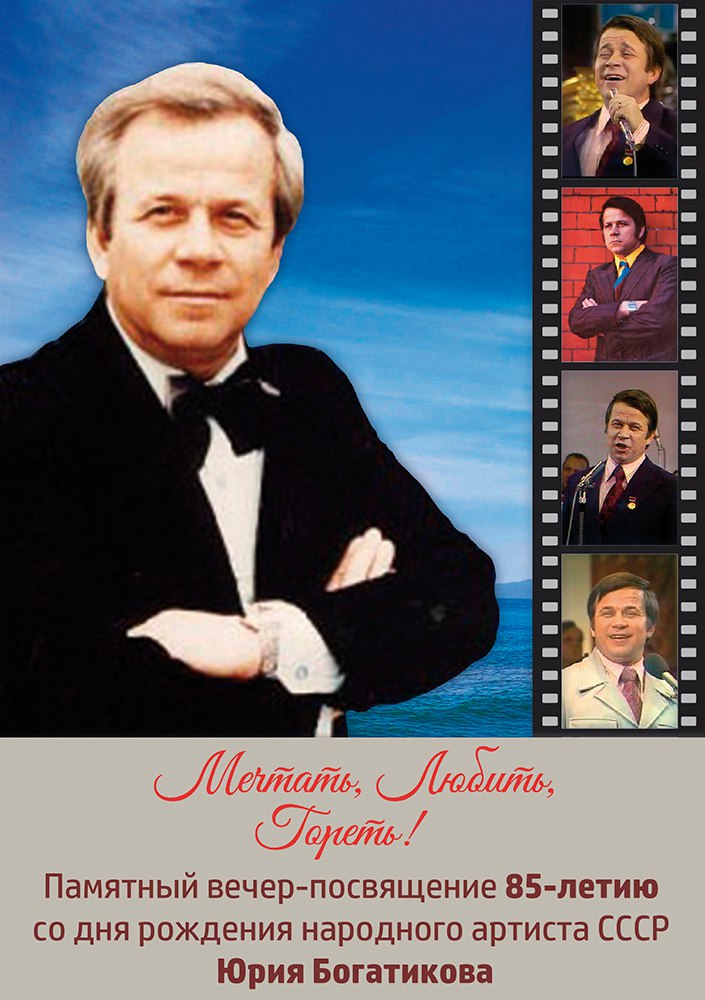Неизвестному водителю
- Подробности
- Создано 23.03.2017 10:01
- Просмотров: 50
Весть от спасеныша страшной, героической,
не уходящей из памяти эпохи

Ему было шесть лет, когда началась вторая мировая война; восемь — когда началась Великая Отечественная; неполных девять — когда он мог умереть в блокадном Ленинграде и был спасён... В восемьдесят два он обнародовал стихи о своем спасителе.
Водитель, который меня через Ладогу вез,
Его разглядеть не сумел я, из кузова глядя.
Он был неприметен, как сотни других в Ленинграде:
Ушанка да ватник, что намертво к телу прирос.
Неприметен? Но одна примета есть — та, которой суждено стать символом горестной и героической эпохи, — ватник. Это не бронежилет, изобретенный позднее, ватник от пуль не спасает. Разве что от смертного холода, — прирастая к телу.
Водитель, который меня через Ладогу вез,
С другими детьми, истощавшими за зиму эту.
На память о нем ни одной не осталось приметы.
Высок или нет он, курчав или светловолос.
Ни одной индивидуальной приметы... Да и понятно, почему: в февральском ознобе 1942 года есть только две приметы: гибель или спасение. Все остальное аннулировала война. Реально только белое и черное... как в лентах кинохроники...
Связать не могу я обрывки из тех кинолент,
Что в память вместило мое восьмилетнее сердце.
Лишенный тепла, на ветру задубевший брезент,
Трехтонки потрепанной настежь раскрытая дверца.
Трехтонка — по льду Ладоги... Под обстрелами и бомбежками, ломающими лед. Если проламывается — спасать невозможно: идущие следом другие трехтонки с другими детьми должны проскочить на скорости. Дорога Жизни оборачивается Дорогой Смерти...
Глухими ударами била в колеса вода,
Гремели разрывы, калеча усталые уши.
Вращая баранку, он правил упорно туда,
Где старая церковь белела на краешке суши.
Примета пейзажа наконец-то проступает в черно-белом мареве смерти — недоразрушенная церковка на том берегу, где — спасение. Восьмилетний воспитанник атеистической советской эпохи — видит краешек надежды.
Октябрёнок — увидит спасение.
Шофер — не увидит...
Он в братской могиле лежит, заметенный пургой,
В других растворив своей жизни недолгой остаток.
Ему говорю я: «Спасибо тебе, дорогой,
За то, что вчера разменял я девятый десяток».
Узнали автора? Да Городницкий же! Александр Городницкий. Тот самый, чьи песни в пятидесятые послевоенные годы запела вся Советская Россия, а потом — и вся Россия послесоветская. Снег над палаткой... Кожаные куртки, брошенные в угол...И перекаты, перекаты...
А на дне памяти — ладожский лед. Распахнутый брезент трехтонки. Блокадный голод. Гибель, от которой спасает страна своих маленьких граждан. И через семь десятков послевоенных лет — кровоточит в памяти...
Сдержать не могу я непрошеных старческих слез,
Лишь только заслышу капели весенние трели,
Водитель, который меня через Ладогу вез,
Что долгую жизнь подарил мне в далеком апреле.
Пережито и осознано в феврале, марте, апреле 1942 года. Записано в феврале 2014-го. Опубликовано в феврале 2015-го в питерском альманахе «Муза».
Муза Поэзии, спасенная в смертельное военное время, оживает в стихах, означающих Жизнь.
Лев Аннинский