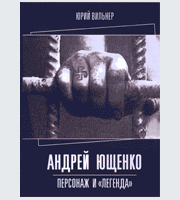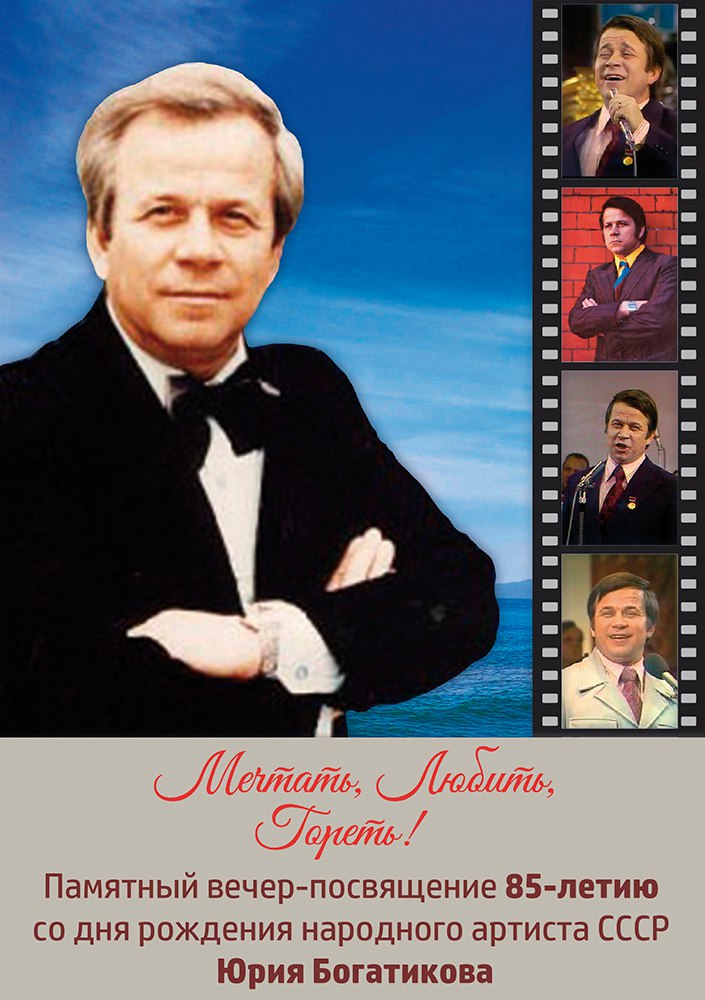Mаленькая женщина
- Подробности
- Создано 05.12.2013 10:57
- Просмотров: 1258
K 70-летию великой победы
Вечерний чай в кают-компании подводной лаборатории явно затянулся. Так уж повелось, что для экипажа гидронавтов вечернее чаепитие было не просто стаканом чая, преду-смотренным суточным регламентом, но временем непринужденной раскованности, часом душевной близости людей, целый день занятых нелегкими и, мягко говоря, не совсем безопасными подводными исследованиями биоресурсов океана.
Здесь говорят о вещах самых различных и много спорят. По высшей шкале оценивается юмор. Сегодня разговор шел о минувшей 40 лет назад войне.
Алексей Иванович Несвитаев, научный сотрудник из Ленинграда, частый гость на борту лаборатории, молчал весь вечер и вдруг произнес, казалось, безотносительно к теме разговора, тихо и задумчиво: - Нас, мужчин, присутствие женщины обязывает ко многому; рядом с нею становимся мы чище, благороднее, отважнее. Да, да, отважнее, - повторил он, обводя прищуренными глазами компанию, словно отыскивая того, кто с ним не согласен, - например, я свой первый подвиг в жизни, впрочем, - он мягко улыбнулся, - это был единственный мой подвиг, и я совершил его только благодаря тому, что со мной в ту минуту рядом находилась женщина.
- Было это, - продолжал Алексей Иванович, - в марте сорок второго, девятого числа, так как накануне я поздравлял маму с женским праздником, да и вообще, день этот я запомнил на всю жизнь…
- Постой, постой, - перебил врач, - в сорок втором было тебе… семь лет, так ведь? Тогда сколько же твоей Джульетте?
- Не мешай, пожалуйста. Итак, заканчивалась первая жуткая блокадная ленинградская зима. В доме на Кировском проспекте, где мы жили, оставалось около двадцати детей моего возраста. Вот нас и решили эвакуировать. Конечно, нам очень не хотелось уезжать, ведь дети не так глубоко, как взрослые, осознают и переживают трагедии.
И все-таки вечером под материнские причитания нас усадили, вернее, уложили на солому в кузове машины, накрыли жестким, как кровельное железо, брезентом и, выдав каждому по маленькому, черному, до головокружения вкусному сухарику, куда-то повезли. Из взрослых нас сопровождала только Полина Сергеевна, Сережкина мама… Лежа с нами под брезентом, она сказала, что повезут нас по льду Ладожского озера, а ночью мы едем потому, чтобы успеть до рассвета, пока над озером не появились немецкие самолеты, до-браться до Новой Ладоги.
Рядом со мной лежала Таня Макарова, моя ровесница, соседка по лестничной площадке. Месяц назад умерла от голода ее мама, а папа, военный летчик, погиб еще в финскую войну, поэтому она жила в нашей семье. Вообще-то, до войны я ее недолюбливал, ну, во-первых, потому, что она девчонка, а во-вторых, - великая плакса. Когда Таня поселилась у нас, я ни разу не видел ее плачущей. Целыми днями сидела она в углу на диване, поджав ноги и, не мигая, глядела куда-то сквозь стены своими большущими серыми глазами, такая худенькая, белокурая. Ни мама, ни я не могли ее расшевелить. И только однажды, когда я, сидя рядом, горячо уверял ее, что к лету мы непременно расколотим фрицев и я поведу ее в зоопарк показать Гитлера в клетке, она робко улыбнулась и погладила мой локоть. И с этой минуты я в нее влюбился. Мама ее, балерина, до войны танцевала в Мариинском театре, она была красивая женщина, и я вдруг обнаружил, что Танечка удивительно на нее похожа. Сейчас, лежа в машине, Таня обняла меня за шею и, кажется, дремала. Я был ужасно горд доверием этой девочки, мне казалось, что какая бы ни грозила нам опасность, я сумею защитить Таню, уберечь ее…
Несвитаев запнулся, коротко вздохнул и продолжил свой рассказ.
- Под утро машина остановилась: что-то случилось с мотором. Полина Сергеевна шепотом разговаривала с шофером, я только расслышал, что до берега еще минут тридцать езды. Сколько еще прошло времени, - не знаю, но когда приподнял край брезента, увидел, что совсем рассвело. По утреннему весеннему небу величественно плыли белые паруса облаков. Ребята тоже высунулись из-под жесткого укрытия. И было совсем-совсем не страшно.
Гул возник сначала будто в голове, но через мгновение он материализовался в маленький черный комочек, выпавший из облаков. Этот звук! Мы, детвора, хорошо умели тогда отличать зловещий низкий зуд фашистских самолетов от тугого звонкого пения наших краснозвездных ястребков. Этот был не наш. Никто ничего не успел понять, как раздался частый-частый треск и над нами пронеслось черное брюхо "змея-горыныча" с белыми крестами на крыльях, а в лицо пахнуло теплой бензиновой гарью. Кто-то заплакал. Непонятно, как сверху нас оказалась Полина Сергеевна, раскинувшая в сторону руки, будто клуша, что прячет под крыльями своих цыплят от коршуна. Она плакала и кричала, чтобы мы прятали головы, что самолет заходит снова. Будто влажный липкий компресс, горло сжимал страх. И было обидно и унизительно, что ничего, ничего нельзя сделать. Я так образно представил себе в прицеле немецкого летчика нашу зеленую полуторку на фоне белого безмолвия, что, несмотря на свои неполные семь, понял - мы обречены. Таня заплакала и, судорожно охватив мою шею, закричала: " Алешенька, милый, спаси меня, я не хочу умирать!".
А гул смерти приближался, он стремительно вырастал в кошмарный рев, казалось, заполнявший весь мир. И вдруг неистовая недетская ярость полоснула меня по сердцу. Не помню как, но я вскочил на ноги, вытянулся во весь рост и, грозя кулаками ревущему черному чудовищу, закричал: "Дурак проклятый! Гадина фашистская! Улетай в свой Берлин!".
И… самолет отвернул! Он пронесся совсем рядом, - рукой достать, - и я до сих пор отчетливо вижу в кабине немца, который через очки смотрит на меня. А потом самолет свечой пошел вверх и растаял в небе.
Я и сейчас не понимаю, что произошло: то ли у него кончились патроны, то ли в озверевшем сердце фашиста что-то шевельнулось, когда он увидел ребенка. Тогда-то я был твердо убежден, что фашист меня испугался. А может быть, - задумчиво молвил Несвитаев, - может, все-таки телекинез существует, а? Уж больно мощный протуберанец своей психической плазмы я выбросил навстречу самолету. Потом, говорят, я целый час без сознания лежал…
В общем, как только немец улетел, мотор нашей полуторки завелся и скоро мы оказались в Новой Ладоге.
Несвитаев замолчал и опустил голову, будто не в силах продолжить рассказ. Наступила пауза.
- Ну, а что же та маленькая женщина? Надо полагать, она и сейчас тебе благодарна? - тихо обронил кто-то.
- А женщины-то и нет…
- ?! ?!
- Не получилась из Тани женщина… На следующий день немцы все-таки разбомбили нас, и Танечки не стало…
В кают-компании повисла гнетущая тишина, слышно было тиканье часов на переборке. Они показывали начало первого. Начинался новый день мирного, 1982 года.
В. Петров,
инженер СЭКПБ
(газета "Труженик", № 15 (1681), 19.02.1982 г.)